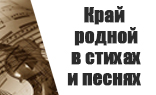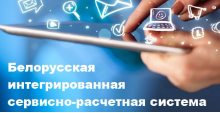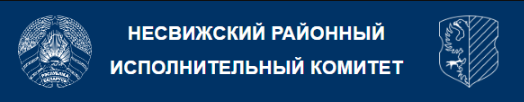Я ненавижу человечество,
Я от него бегу, спеша.
Моё единое отечество —
Моя пустынная душа!
Один несчастный
начала ХХ в.
Автор в молодости неодно-кратно повторял эти, как ему верилось, глубокие строки. Бывало, как начнёт повторять их где-нибудь за рюмкой кофе или у фонтана; или просто бормоча в весенний воздух: «Я ненавижу человечество, я от него бегу спеша…» — прямо мороз по коже! Набормотавшись, автор, согласно инструкции, торопился в свою пустынную душу, где садился на лунный камень и сидел так, отрешённо, минут сорок, практически академический час. Однако по молодости это горькое сидение ему скоро надоедало, и он выходил наружу, как экзистенциальный Стенька Разин, заводил большие пальцы за невидимую распояску, иронично наблюдая за людской тщетой и суетой. При этом в углу его скорбного рта дымила сигарета, а во взоре пылала такая бездна горькой иронии, что правильно было бы держать не распояску, а огнетушитель. Так гордо возвышался автор над муравьиным миром, копя будущие обиды. Было неприятно, правда, что никакая собака не замечает этой бездны иронии, даже не пытается остановиться и оправдаться перед тяжким приговором личности (т.е. автора), которая одна имеет право сказать: идёмте, я покажу вам иную жизнь, достойную моего показа!
Так духовно нагоревавшись и отскорбев, автор шёл в знакомое кафе на Крещатике, где кооперировался с такими же непонятыми и отверженными. Это кафе есть и сейчас; только тогда там стояли круглые двухъярусные столики. На верхнем ярусе располагались локти и окурки. На нижнем, невидимом для милиции, размещались бутылки портвейна, где на этикетке значилось «777». За что в народе его звали «портвейн «Три топора». Вы приходили туда, а вокруг столика уже стояло несколько таких же зеленоватых от постоянной иронии идальго. Кто-то представлял вас остальным: это Володя, тоже поэт! Незнакомые вам поэты внимательно смотрели, что и сколько вы ставите на нижний ярус. Удостоверившись, протягивали руки для знакомства и стакан для разлива. Вообще-то автор тогда стихи не столько любил, сколько терпел, ибо так нужно было для пущего счёта неблагодарному человечеству.
Мимо ходят какие-то люди,
Каждый весел, доволен и сыт.
Ничего им поэт не забудет,
Ничего им поэт не простит!
Помнится, была среди тех поэтов одна девушка, поэтесса, какая-то горькая и ужасно курящая. Она всегда была в ореоле выпускаемого табачного дыма, и невозможно было разглядеть, красивая она или нет. Она тоже пила портвейн и тоже подавала из дыма свой неокрепший поэтический голос. Выпив за знакомство, поэты читали заунывные неразборчивые стихи. Потом играли в игру «балда», на которую тогда подсела кофейная интеллигенция. Курили. Снова читали, играли в «балду» и снова курили. В промежутках пили портвейн, и снова читали, забывая, что это уже читано, поскольку пили без закуски. Где-то через час или через месяц некоторые мистически исчезали; на освободившееся место приходили новые, им показывали, куда ставить принесенные бутылки; говорили остальным: знакомьтесь, это… как тебя зовут? Лёня?.. это Лёня, тоже поэт. Помнится, за год поэтических будней контингент поэтов вокруг столика обновился трижды. Своим ходом исчезла и загадочная поэтесса. Последний раз автор видел её у входа на рынок; она была в мятом плаще и полуподпольно продавала сахарную вату, как бы с нижнего яруса. Она в тот момент не курила, и автор смог, наконец, рассмотреть, какое у неё лицо на свежем воздухе. Лицо было обыкновенное, а под глазом красовался большой и тёмный синяк.
Неисповедимы пути твои, Поэзия!
А, между прочим, всё начиналось как раз наоборот. Сначала автор именно любил человечество. Буквально сызмала. Любил и не требовал, что характерно, взаимности. Может потому, что мечтал это человечество спасти, по-детски чуя, что человечеству грозит опасность, и ждал случая, чтобы прикрыть его от ледяного дыхания гибели. Спасти и стать в стороне. Скромно застыть на бульваре в бронзе. Он даже видел, как это будет, особенно насчёт бронзы. Но время шло, а дело не двигалось. В основном не подворачивалось приличной опасности, а когда нависала опасность, — над автором самим нависала годовая «двойка» по алгебре. Тем не менее, он находился в состоянии постоянной готовности к подвигу, и ложился спать, практически не раздеваясь. Но планета как-то вяло готовилось к предстоящему акту. Наоборот, человечество спешило мимо, толкалось в аптеке, пело с эстрады; влюблялось в другого, гораздо менее достойного. В конце концов — вульгарно обманывало на сдаче! И так было долго, пока на автора не нашло озарение: человечество не надо любить, а нужно его не любить, раз оно так! Как раз тогда в моду вошли тяжёлые мизантропические стихи, которые читались под разлив и с подвывом. Автор тоже включился в это дело, чувствуя, что сильно припоздал; торопливо слагал стихи, пробовал читать их, тоже посильно подвывая. Завидуя одному тоже поэту, который читал свои стихи с таким воем, что повергал народ в прах. Которого хвалили не столько за стихи, сколько за то, что сами уцелели. У автора же подвывать получалось в нос, то есть неубедительно:
У самолёта болит сердце —
Ну и что?
Всем ведь известно, у них
вместо сердца
Железный мотор!..
А потом, попробуй провыть эти строки, тут же доброжелатели в кавычках скажут: подражает своему самолёту. А ведь стих совсем про другое, тем более, что в конце, бац — трагический финал! Или более приземлённая «Баллада о кладбищенском стороже», которого уволили со службы «за сон на посту, за винище, возлитое многажды с водкою…» и другие проступки, вошедшие в противоречие с его высоким служением!
«… но каждый день на кладбище
Спешит он нетвёрдой
походкой.
Ему неуютно с живыми
В пустом человеческом
обществе.
Ему веселей с родными
Почившими и усопшими».
Помнится, там была ещё неплохо воспета чугунная ограда. А в финале, бац — и трагедия! Какая — автор уже запамятовал. Может, сторожа задавило той оградой, всё-таки чугун!
Короче, в один прекрасный день автор вошёл в конфликт с человечеством. Начал он с того, что перестал здороваться с начальством, чем это начальство несказанно изумил. Обычно с начальством здороваются во всех настроениях и во всех агрегатных состояниях материи, даже в затылок. А тут нашёлся один — проходит мимо мрачный, как волжский утёс с поджатыми устами. Начальство по своей недалёкости поняло, что автор намерен жениться на чьей-то высокой дочке, и, помнится, давай здороваться первым. Отмстив ни в чём не повинному начальству, автор перешёл на родных, вожатых, продавцов лотерейных билетов, деятелей кинокультуры, политический строй (развитой социализм), и просто перестал платить за проезд в терпеливом общественном транспорте, мотивируя это чем-то гордым.
Так длилось долго. А меж тем жизнь текла своей рекой. И платила автору тем же, то есть тоже отвернулась. Первыми это сделали девушки, которым автор ставил такие высокие требования, что хоть сразу в космонавтки. Но они были к этому не готовы и, заслышав голос автора, бросали трубку. Остальное человечество поступало примерно так же, не утомляя себя разнообразием. У автора на это портился характер, западали щёки, мысли были какие-то липкие, лоб мрачнел и покрывался вневременными залысинами. Пошли пробные провалы памяти… Примерно тогда родились эти обличительные строки:
Как много, друг,
Вокруг унылых лиц.
Непроницаемы обличья,
словно спины,
Пусты, как яйца,
плоски, словно блины и т.д.
Уже глубоко потом автор прочитал, что мир — это зеркало. Покажешь туда фигу или что погуще, и в ответ будешь любоваться тем же.
Неизвестно, чем бы закончилось это противоречие систем, но тут подвернулся случай.
Дело было утром. Народ ехал на работу в метро в час пик. В тесном вагоне стоял какой-то тупой полусумрак, хотя горели обычные светильники. На остановках входили люди, становилось всё тесней и неприятней. Автор тоже ехал, полный кризисов; постылое человечество дышало, пихалось или упиралось животом. Вокруг были мрачные некрасивые лица. Стараясь не оскорблять свой благородный взор, автор искал, во что упереть глаза и упёрся в отражение в окне вагона. Увидел в нём странно знакомое лицо. Присмотревшись, понял, что это его собственное, напряжённое, злое, готовое к отпору. То есть — ничем не отличающееся от остальных. Стало обидно. Хотелось крикнуть: это я вас ненавижу, имею право, а вы кто такие, признавайтесь?! Но кричать не стал, понимая: разве до этих докричишься! В общем, нравственный караул!.. И вот тут нечто произошло. Среди мрачного качания сумрачных голов, среди глухого воя разгоняющегося поезда раздался странный, болезненно знакомый звук. Звук, которого здесь быть не должно ни за что, а — вот он! Все даже напряглись, потом дошло: у кого-то в портфеле зазвонил будильник. Может, у командировочного… Была, кстати, у автора несостоявшаяся любовь, то есть ненаписанная пьеса. То есть написанная, но очень грустная. Она так и называлась «ВЫШЕЛ ЗАЙЧИК ПОГУЛЯТЬ». Там на сцене появлялся Командировочный в своих доспехах — сером унизительном плаще. Ставил на стол мятый, какой-то бессловессный портфель. Говорил в зал: «Здравствуйте, Зайчика не видели? Посмотрите между рядами, только осторожно, он очень ранимый! Что, нету? Кто увидит, скажите, что я уже здесь, я его ищу… Кстати, его зовут Семёнов. Он умеет считать не по годам; нетребователен в быту, но очень чувствителен. Узнал, что капля никотина убивает Лошадь — расстроился!!! Побежал, дал телеграмму…»
Короче, они там вдвоём с Зайчиком по имени Семёнов проживали на сцене разнообразную, не всегда весёлую жизнь командировочного тех времён. Да, но «Зайчик» был потом. А пока мы едем в утреннем пиковом метро, где вдруг раздался звонок будильника, приглушенный портфелем; такой… хотелось сказать, «родной», но рука не поднимается, ибо будильник — древний и честный спутник человека, и как раз вот за самоотверженное служение его и не любят, бьют ладонью по голове. Но на этот неожиданный звонок люди взяли и заулыбались. И автор тоже заулыбался, чувствуя, как непривычно растягиваются губы и щёки. И тут произошло физически необъяснимое: вокруг стало светло! В прямом смысле! То есть ехали как бы внутри длинного погреба, и вмиг он превратился в пусть полный, но вагон с людьми. Это было так очевидно и неожиданно! Люди заулыбались, и всё осветилось. И не в песне, где за деньги поэт осветит что угодно, даже подштанники, а вот, перед твоими собственными глазами… И тогда, или чуть позже, потрясённый автор сказал себе примерно следующее.
Он сказал себе: «Сволочь, тебе неприятны мрачные лица — это твое горе. Но почему люди должны портить зрение о твоё выражение лица, что они тебе сделали?!» И позже, будучи честным, автор приписал к тому обличительному стиху новую концовку:
…Но посмотрися в зеркало, скотина?
Ужель твоё приятнее их лиц?!
После этого автор постановил себе улыбаться! Просто так и, главное, первым. А то пока будешь ждать, пока тебе приветливо улыбнутся, можешь не дождаться! Сначала, конечно, было ужасно трудно, как разгибать кочергу до ровного, кто разгибал. Потом дело пошло. Смешно, но жить сразу стало веселей! Время от времени автор возвращался в свою пустынную душу, но быстро оттуда выскакивал наружу, на солнышко. Жмурясь и стряхивая со штанов.
Вот и вся повесть. С тех пор жизнь повернулась к автору передом, а к лесу задом.
А потом — потом был ещё один полумистический случай, который утвердил автора на этом правильном пути.
В то время автор часто захаживал к одним знакомым. Жили они в спальном, как сейчас говорят, районе. То есть одинаково разграфленом, одинаково уставленным одинаковыми домами. Не очень весело, особенно, если зима и долго ждать трамвай. Да. К дому тех забытых уже друзей вела выложенная бетонными плитами дорожка. Проходя к знакомому парадному, автор всегда замечал одиноко играющую девочку. Он отметил её потому, что когда проходил мимо, она поднимала головку и как-то по-взрослому испытующе смотрела в глаза, как бы желая что-то спросить. Но не спрашивала, а опускала лицо и вновь занималась своими небольшими занятими. Так было практически всегда. Автор привык к ней, как к маленькой достопримечательности: вот так — угол девятиэтажки, там угол другой девятиэтажки, посередине выложенная бетоном дорожка. Слева — молчаливая девочка лет пяти в обычной одёжке по сезону занята чем-то своим девичьим. Каждый раз, проходя в свои гости, автор видел её рядом с дорожкой; она никогда на неё не выходила, даже не пересекала. Так было всегда. А однажды — однажды она оставила своё занятие и вышла на дорожку. Как бы преградила путь. Автор тоже остановился. Она вновь внимательно посмотрела в глаза и, наконец, задала свой вопрос. Автор на это почему-то не удивился, вроде даже его ожидал; он что-то там ей ответил и пошёл себе дальше в означенные гости. Больше девочка не появлялась. И, думает сегодня автор, была ли она вообще?.. Да нет же, была, маленькая аккуратная девочка с внимательными глазами; она ещё держала в руках какой-то детский предмет. Она всегда была там… такое что-то держала, не новое, оранжеватое… А тогда — тогда перегородила дорогу… с этим, оранжеватым, и негромко спросила, внимательно глядя в глаза.
Она спросила:
— Дядя, а почему вы всё время улыбаетесь?
А что было ей ответить? Она ведь маленькая, разве она поймёт?
Владимир ПЕРЦОВ.